Комментарий о происхождении документа
В результате поражения в Гражданской войне в конце октября 1920 состоялась эвакуация из Крыма Русской Армии под командованием ген. П.Н. Врангеля. Эвакуацию из Севастополя была организована практически идеально. Все «что могло плыть» было поставлено на воду так что к армии присоединились многочисленные беженцы. Вместе с ними в Константинополь прибыл Митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий) и четыре архиерея входивших в действующее в Крыму церковное управление.
Митрополит Антоний являлся почитателем восточных патриархов. [1] Поэтому понятна первая реакция Митрополита Антония на создание Русской Зарубежной Церкви, описанная близко знавшим его, протопресвитером Григорием Ломако,
Я прекрасно помню тот сумеречно-туманный декабрьский день 1920 г., когда всегда бурно стремительный и никогда уравновешенный епископ Вениамин, тогда епископ «Христолюбивого воинства», приехал в Константинополь со стоящего на рейде нашего броненосца «Генерал Алексеев» с предложением открыть в Константинополе Высшее Церковное Управление. Вот, в самом начале эмиграции в Константинополе митрополит Антоний и я стояли в пустой комнате верхнего этажа Русского посольства в Константинополе у открытого большого окна, смотрели на Босфор, чуть видные из-за дождя минареты Скутари и седую громаду турецких казарм Селимие в Кади-Кей. Вдруг входная с коридора дверь порывисто и с шумом открывается, и, когда мы обернулись, увидели вбегающего епископа Вениамина. Еще с порога, обращаясь к митрополиту, он громко сказал: «Владыко! Мы решили открыть здесь Высшее Церковное управление заграничной Церкви!» Со свойственной ему резкостью и прямотой митрополит Антоний в ответ на это возглашение сказал, что надо быть совершенным дураком, чтобы думать об открытии своего Высшего Церковного Управления в стольном городе Вселенского Патриарха: «Кто вам посоветовал сделать эту глупость?» Епископ Вениамин: «Это я сам![2]
Вероятно, память подвела о. Григория и описываемые должны были происходить в ноябре. Согласно тексту постановления Священного Синода Константинопольского Патриархата 16-го ноября, 1920-го года русские архиереи беженцы подали этому Синоду прошение о разрешении им церковной организации в ответ на которое и было дано публикуемое здесь постановление.[3] В протоколе заседания от 6/19 ноября, 1920 г. Высшего церковного управления на Юге России, бывшего на корабле Александр Михайлович за ном.1, за границей, принимается следующее постановление:
Ввиду сосредоточения огромного количества беженцев в различных государствах и частях света, не имеющих общения с Советской Россией и не могущих сноситься с Высшим Церковным Управлением при Святейшем Патриархе, а также вследствие необходимости попечения и о русской армии выехавшей из Крыма –
а) продолжить полномочия членов Высшего Церковного Управления с обслуживанием всех сторон церковной жизни и Армии во всех государствах, не имеющих сношения со Святейшим Патриархом;
б) местом действия Управления избрать г. Константинополь, как наиболее центральный пункт;
в) снестись с Константинопольской Патриархией для выяснения канонического взаимоотношения.[4]
В последнем пункте документа высказана просьба к П. Н. Врангелю об обращении и с его стороны во Вселенскую патриархию. В заседании принимали участие следующие архиереи:
Митрополит Антоний (Храповицкий) Киевский и Галицкий,
Митрополит Платон (Рождественский) Одесский и Херсонский,
Архиепископ Феофан (Быстров) Полтавский и Переяславский,
Епископ Вениамин (Федченков) Севастопольский.
Таким образом посещение Константинопольской Патриархией с подачей прошения состоялось. Очевидно, что прошение было подано 29-го ноября по новому стилю или 16-го по-старому cтилю, как следует из вышеупомянутого текста Константинопольского Патриархата.
Вот, что пишет об этом посещении очевидец событий, отец Григорий Ломако
Возражавший вначале митрополит Антоний (единственный из всех) был как-то убежден другими и спустя некоторое время уже возглавил депутацию из русских архиереев (митрополиты Антоний и Платон, архиепископы Анастасий и Феофан Полтавский и епископ Вениамин) в Патриархию к местоблюстителю вдовствующей тогда кафедры Вселенского Патриарха митрополиту Брусскому Дорофею, депутация просила о разрешении открыть в Константинополе Высшее Церковное Управление. Дальновидные греки и не отказали, и не разрешили. Они наговорили всяких комплиментов, мудрости, учености, авторитетности митрополита Антония и на словах сказали, что, полагаясь на его авторитет, при котором не может быть допущено ничего неканонического, они разрешают ему просимое.[5]
Тут же о. Григорий упоминает, что документ за ном. 9084 г. был получен некоторое время спустя. До сих пор этот документ был доступен в русском переводе только из этой брошюры К делу о “Всезаграничном Высшем Русском Церковном Управлении” // Константинополь. [6]
В каталоге дел в архиве Константинопольской патриархии сохранилась рукописная копия этого документа от 2-го декабря, 1920 г. [7] В 1924 г. греческий оригинал документа был воспроизведен в изданной Константинпольской патриархей брошюре Ζήτημα τῶν Ῥώσων ΠροσφύγωνἈρχιερέων, содержащей документы Вселенского престола касающихся Русской Зарубежной Церкви, а также два обращения от русских беженцев, опубликованных в вышеозначенной брошюре на русском языке. Публикуемый здесь, по тексту русской брошюры текст, в целом соответствует греческому оригиналу брошюры Ζήτημα, кроме мест отмеченных в примечаниях. Интересно также, что этот документ подписан местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Дорофеем Брусским, тем самым, который в январе 1920 года от имени Патриархата подписал послание «Церквам Христа, везде сущим», ставшим знаковым рубежом православного участия в экуменическом движении.
Публикация документа помогает понять, что в действительности произошло между русскими беженцами архиереями и Константинопольской Патриархией. Внимательное прочтение документа показывает, что Константинопольский Патриархат в 1920 г. уже полагал, что ему принадлежит все неправославная диаспора. Документ дает русским беженцам права ограниченной автономии в рамках Константинопольского Патриархата. Только в этом контексте, уже имеющегося благословения Константинопольской Патриархии, можно понимать следующее место в показании св. Патриарха Тихона на допросе ГПУ 30 января 1922 г. что он «дал свое благословение Высшему Церковному Управлению, организованному Антонием в Константинополе».[8]
Публикатор выражает благодарность следующим лицам без участия которых настоящая публикация на могла бы осуществиться: Его Святейшеству Вселенскому патриарху и Архиепископу Константинопольскому Варфоломею; архимандриту Кесария, архивариусу Константинопольского Патриархата; протопресвитеру Вселенского Патриархата Патрикию Вискусо; архидиакону Вселенского Патриархата Иоанну Хрисавгису; Н. А. Охотину, Директору по связям с общественностью при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви Заграницей; Николасу Мэбину иподиакону собора Рождества Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви Заграницей г. Лондона, Великобритания; доктора Анне Рансмайр, Заведующей специализированной библиотекой византинистики и неогреческих исследований Венского университета; д-ру Энтони Хирст, заведующему школой византийского греческого языка при Тринити колледж, Дублин, (Ирландия); проф. Антуану Нивьеру, д-ру филол. наук, заведующему кафедрой русской литературы и истории Государственного Университета Лотарингии (Франция).
Протодиакон Андрей Псарев,
29 сентября, 2025 г.
Перевод документа
Наш возлюбленный брат и сослужитель во Христе, высокопреосвященнейший Антоний, митрополит Киевский и Галицкий, направляет братское целование о Господе Вашему возлюбленному Преосвященству.[9]
Сообщение № 1 от 16-го числа[10] прошлого месяца [ноябрь 1920 года] было прочитано на собрании Священного Синода, каковое Ваше Высокопреосвященство совместно с досточтимыми иерархами, добавившими к нему свои подписи, сочли необходимым представить касательно той сложной ситуации, которая возникла в связи с событиями, произошедшими в вопросе о пастырском управлении и удовлетворении религиозных нужд как многочисленных русских солдат, так и беженцев, сосредоточенных в различных специальных лагерях и местах в православных странах[11] и среди колоний, которые до сих пор получали прямое пастырское руководство со стороны Блаженнейшего патриарха Всея Руси и иерархов в России.
Священный Синод, прочитав это сообщение, в первую очередь выразил свое сочувствие в связи с длительными и великими испытаниями благочестивого русского народа и сестринской Святой Церкви Российской и в то же время вознес горячие молитвы о скором прекращении бедствий. Вслед за тем Синод внимательно рассмотрел просьбу ваших Высокопреосвященств[12] относительно удовлетворения в достаточной степени религиозных нужд вышеупомянутой паствы Русской Церкви, которая в настоящий момент временно находится за пределами России и не имеет с ней никаких контактов.

Местоблюститель Константинопольского Патриаршего престола, митрополит Прусский Дорофей (Маммелис, 1861–1921). Фото: orthodoxhistory.org.
После благожелательного обсуждения этой просьбы Священный Синод постановил, чтобы Ваше Высокопреосвященство и другие перечисленные иерархи: Его Преосвященство Платон, Митрополит Херсонский, Высокопреосвященнейший Анастасий, Архиепископ Кишиневский, Высокопреосвященнейший Феофан, архиепископ Полтавский и Преосвященнейший Вениамин, епископ Севастопольский, окормляющие армию и флот, образовали в целях пасторского служения вышеупомянутому населению Временную Церковную комиссию под высшим управлением Вселенской Патриархии для надзора и руководства общецерковною жизнью русских колоний в пределах православных стран, а также для русских воинов и беженцев,[13] которые живут отдельно от остальных православных по городам и селам, лагерям и отдельным зданиям. Вы будете печься о том, чтобы посылать священников, антиминсы, проповедников и все необходимое им, лично посещать их, рассеивать своими наставлениями сомнения,[14] которые могут возникнуть, положить конец конфликтам и вообще выполнять все необходимое для того, что предлагает Церковь и религия для утешения и ободрения русских христиан.
Что касается брачных разбирательств, требующих надлежащего расследования судом, то заинтересованные стороны должны в установленном порядке направлять их в законный архиепископский церковный суд Константинопольского Вселенского Престола и, в целом, в суды тех православных стран, в которых проживают беженцы, и, если такие случаи будут иметь место в российских колониях, — непосредственно в суд[15] Вселенского Патриархата.
Сообщая вам с удовлетворением о том, что сказано в этом послании, мы снова молимся, да положит Господь скорый конец бедствиям и испытаниям благочестивого русского народа и да ниспошлет ему утешение и возрождение.[16]
Подписано и скреплено печатью
Примечания
[1] «…к 1915 г., когда успешное окончание войны казалось близкой реальностью… в различных российских ведомствах были составлены записки для внутреннего пользования, касающиеся будущего устройства русского Константинополя – военного, экономического, церковного. Записки для Св. Синода составляли И. И. Соколов и архиеп. Антоний (Храповицкий)… Русский патриарх займет второе место после Вселенского, который, в свою очередь, получит подобающее ему первенство по чести в православном мире. Константинополь может стать второй столицей и резиденцией русского царя.» История Русского Православного зарубежья. Том I: Русское православное зарубежье до 1917 г. / отв. ред. Бибиков В. С. и др. — М.: Изд‑во Московской Патриархии РПЦ, 2016. С. 141-142.
[2] Воспоминания // Церковно-исторический вестник. – 2017/2018. – № 24–25. – С. 155.
[3] Там же. С. 156. Прим. 181.
[4] Архив Архиерейского Синода РПЦЗ в Нью-Йорке.
[5] Там же. 155-156.
[6] Типография Бакок и Сыновья. 1924 г. С. 5–7 «К делу» очевидно имеются в виду в Архиве Вселенской патриархии. Брошюра не содержит имен публикаторов. Однако из текста обращения к вселенскому патриарху Григорию от 24 апреля 1924 г., содержащейся в этой же брошюре, очевидно, что авторами являлись православные русские люди желавшие репатриироваться из Константинополя в Россию и посему не поддерживавшими непримиримого курса Русской Зарубежной Церкви в отношении большевиков. (Датировка по тексту Ζήτημα τῶν Ῥώσων Προσφύγων Ἀρχιερέων. Константинополь, 1924. С. 31). В номере 3 за 1956 г. на сс. 13-14, Церковного вестника Западно-Европейского русского экзархата Константинопольского Патриархата, анонимный автор, опубликовал перевод документа ном. 9084 в своей статье «К 25-ти летию русского православного экзархата в Западной Европе». Перевод идентичен том, что помещен в брошюре «К делу».
[7] Оригинал документа, переданного Зарубежному Церковному Управлению в декабре 1920 года, по всей вероятности, утрачен. Номер 9084 является порядковым номером присвоенный документу в патриархии в порядке рассмотрения. Копия содержится в кодексе А-90, с. 552–553. Сопроводительное письмо ошибочно датирует документ 1919 годом. Приведенное здесь название дано мною.
[8] Акты святейшего патриарха Тихона, Москва, 1994. С. 261
[9] Рукописная копия документа из Архива Патриархии содержит простое обращение: «Антонию, Киевскому и Галицкому». Однако греческое, печатное издание документа, по которому сделан русский перевод в брошюре 1924 года, уже содержит приведенное выше обращение.
[10] В греческой брошюре написано 6-го, тогда как в документе из Патриархи указано 16-го.
[11] Должно читаться в неправославных странах.
[12] Согласно греческому оригиналу, надо читать в единственном числе.
[13] Согласно греческом оригиналу надо отнести «по городам и селам» к православному населению, но не к русским беженцам.
[14] В греческом тексте «несогласия».
[15] В греческом оригинале нет слова «суд».
[16] Согласно греческому тексту вместо «возрождения» надо читать «поддержку».












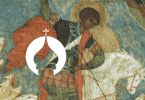




“Во Вселенском Патриархате считали, что русское духовенство и паства, разбросанная по Турции находятся под его омофором.”
Но ведь сами зарубежники так не считали – принимали сами решения, переезжали по своему желанию, собирали съезды, и тд., не спрашивая ничего в Константинополе. Конечно, не считал этого и Св. Патриах Тихон.
Церковные правила требуют церковного подчинения местной церковной власти на территории поместной Церкви. Патриарх Тихон не мог этого не знать. Поэтому возможно смысл фразы в том, что он дал благословение ВЦУ, ОСНОВАННОМУ в К-пле, но не на его деятельность на территории К-пльского Патриархата.
Высшее Церковное Управление на Юге России (ВЦЮР) имело собственную каноническую основу, которую иерархи и пытались сохранить, ту самую основу, которую чуть позже предоставил ей Патриарх Сербский. Весьма немалую роль в этом вопросе сыграл епископ Вениамин (Федченков), глава военного и флотского духовенства, впоследствии митрополит, Экзарх Северной и Южной Америки…
У меня сложилось впечатление, что Константинопольский местоблюститель Дорофей (Маммелис) прекрасно понимал церковный статус российских беженцев и сочувствовал им, но реально помочь не мог, потому что сам был в тяжёлом финансовом и политическом положении. Константинопольский (Вселенский) Патриархат был также несвободен, как и Русская Православная Церковь в тот период (1920-е годы). Находясь в исламской стране и потеряв большую часть паствы в результате Малоазийской катастрофы (1916-1922), он мало чем отличался от положения св. Патриарха Тихона в Советской России. Будущее было неопределённое, провоцировать нынешние и будущие турецкие власти непродуманными действиями по отношению к русским было опасно (хотя Стамбул в 1920 году контролировала Антанта, победа Мустафы Кемаля уже просматривалась). Русские были противниками Турции в окончившейся Первой Мировой Войне, в которой Турция потерпела поражение + распад Османской Империи + крушение монархии (как в России) – как следствие, шла гражданская война. Фактически, русские беженцы переехали из одного хаоса в другой. Если большевики смотрели на Мустафу Кемаля более или менее благосклонно (в апреле 1920 он написал письмо Ленину с просьбой о помощи и с осени 1920 года большевики оказывали ему финансовую и военную помощь), то ухудшать отношение к себе Советской России, на ровном месте, ради покровительства русским беженцам (противникам большевиков) Турция явно не хотела. Я думаю, что местоблюститель Дорофей (Маммелис) официально написал то, что он должен был написать и что можно было безопасно опубликовать. Возможно, покрывая своим омофором русскую паству в Турции, местоблюститель Дорофей и наследовавший ему местоблюститель Николай (Саккопулос) таким образом прикрывали русских беженцев от возможных преследований со стороны турецких властей, переводя их в статус прихожан признаваемой и разрешённой в Турции Константинопольской Церкви.
Скорее всего, митрополит Антоний (Храповицкий) встретился и неофициально переговорил с местоблюстителем Дорофеем (Маммелисом), который детально объяснил ему общую ситуацию и положение Константинопольской Патриархии, и посоветовал (скорее, помог материально и организационно) перебраться в Югославию, где положение русских будет гораздо более удобным и безопасным. Документов при этом, конечно, никаких не составлялось, разговор происходил втайне от турецких властей и его содержание мы никогда не узнаем (хотя теоретически, митрополит Антоний мог написать мемуары или рассказать об этом кому-то из доверенных лиц). Во всяком случае, российское Высшее Церковное Управление Заграницей благополучно переехало из Стамбула в Сремски-Карловцы летом 1921 года, предварительно получив на это разрешение Архиерейского собора Сербской Православной Церкви (сербский Патриарх Димитрий решил вынести этот вопрос на собор). Константинопольская Патриархия на переезд большого количества русских епископов и священников из своей юрисдикции в Сербию никак не отреагировала и никаких препятствий не чинила, что косвенно подтверждает предварительную договорённость между Высшим Церковным Управлением Заграницей и Константинопольской Церковью.