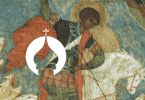Ирина Папкова (Irina de Quenoy) в настоящее время является старшим преподавателем факультета международных отношений и европейских исследований Центрально-Европейского университета. В 2002 г. она получила степень магистра по российским и восточно-европейским исследованиям в Джорджтаунском университете, а в 2006-м там же – степень доктора по сравнительной политологии. Она преподавала в Джорджтаунском университете, Университете им. Джорджа Вашингтона и Российском государственном педагогическом институте им. А.И.Герцена. В числе её научных интересов – религия и политика, национализм и межэтнические конфликты, политика развития и демократизации, культурные последствия глобализации, а также политические аспекты исторической памяти. География её исследований – Евразия и Восточная Европа. В числе публикаций И. Папковой – «The Russian Orthodox Church and Political Party Platforms» в Journal of Church & State и «Notes on Recent Scholarship on Orthodoxy and Politics in Russia» в весеннем 2008 года выпуске журнала Kritika: Explorations in Russian History and Culture. Рукопись её работы «Russian Politics and the Orthodox Church» находится в стадии публикации по договору с издательствами Oxford University Press/Woodrow Wilson Center Press. До работы в Центрально-Европейском университете она занимала должность ученого-исследователя по титулу VIII в Институте перспективных русских исследований им. Дж. Кеннана Международного центра поддержки ученых-гуманитариев им. Вудро Вильсона. С марта по август 2008 она работала младшим научным сотрудником Института исследований человека в Вене по программе фонда Роберта Боша, занимаясь фундаментализмом народных масс в православных странах Восточной Европы.
Расскажите, пожалуйста, о себе и о том, как вышло, что вы занялись тем, чем занимаетесь сейчас.
Как вам известно, моя семья – русские эмигранты во втором поколении, и они очень активно участвуют в религиозной жизни русской общины в США. Со стороны отца у нас насчитывается четыре поколения священников – мой отец, прадед и прапрадед, плюс одно промежуточное звено – мой дед, который тоже был связан с церковью как иконописец. С отцовской же стороны мы в дальнем родстве со свят. Николаем Японским. Моего прадеда, о. Александра Папкова, можно по праву считать исповедником веры, поскольку он в 1937 году полгода просидел в тюрьме только за то, что был священником; там его здоровье было подорвано, и он умер вскоре после освобождения. Мой дед с материнской стороны был известным священником в Бостоне и играл довольно значительную роль в деле воссоединения Русской Православной Церкви Заграницей с Московским Патриархатом. Так что в нашей семье сильна традиция не просто принадлежности к церкви, но и участия в «административной» стороне её жизни. Думается, если бы я родилась мужчиной, то тоже пошла бы в священники. Ну, а когда пришло время решать, о чем писать докторскую диссертацию, я долго колебалась, прежде чем решить писать о Русской Православной Церкви, потому что эта тема казалась мне слишком, если хотите, «интимной». И я поначалу собиралась писать о судебной реформе в России. Но потом я подумала, что должна писать о том, что меня глубоко и по-настоящему волнует, а, сказать по правде, немалая часть моей энергии в конце 1990-х и начале 2000-х была направлена на этот вот вопрос об отношениях между РПЦЗ и МП (как это было тогда у многих церковных людей). Особенно меня интересовало место, занимаемое в этих дебатах государством. И я подумала – эта тема меня мучает, и, пожалуй, мне надо написать что-нибудь в этой связи, и это меня излечит от этого всепоглощающего интереса; иными словами, может быть, я выведу эту тему из своего организма. Мне повезло – мне попался превосходный научный руководитель в Джорджтауне, и он мне помогал на этом пути, он и очень доброжелательная диссертационная комиссия. И в итоге я в 2006 году защитила диссертацию и в последующие несколько лет время от времени в ней возвращалась, чтобы сделать из нее книгу, которая теперь принята к изданию и появится на свет этой осенью. И вот я, совершенно к этому не стремясь, оказалась человеком, которого считают знатоком этой тематики, а это означает приглашения на всякие конференции и произнесение всяких мудреных слов типа «православие и политика», «православие и капитализм», «православие и современность» и тому подобных, всего такого, о чем мне есть что сказать, но до чего, честно говоря, мне теперь всё меньше и меньше дела – у меня такое чувство, что в своей книге я сказала всё, что хотела на эту тему сказать, и как только она выйдет, я стану свободна и смогу писать о чем-нибудь другом, о том, что меня интересует, что не имеет прямого отношения к православию в России. Хотя, конечно, меня по-прежнему глубоко волнует происходящее в самой Церкви, волнует, как политические процессы в России и не только отражаются на будущем Церкви в мире. (Ибо, конечно, путь Церкви в вечности в конечном итоге определяет Бог, а не государство, но это другой уровень дискуссии).
Вы говорите, что последние лет пятнадцать много занимаетесь отношениями между церквами на родине и в диаспоре. Но вот теперь они объединены. Какие благоприятные возможности и какие задачи открывает этот союз с точки зрения РПЦЗ?
Начнем с благоприятных возможностей. Во-первых, я считаю, что союз с Московским Gатриархатом дает несравненно более широкие возможности прихожанам РПЦЗ для общения с остальным православным миром. Начиная с 1970-х Зарубежная Церковь шла по совершенно закрытому для других пути, в частности, наша молодежь росла по большей части в неведении о том, что у них есть православные собратья, например, в греческих и сербских общинах. И у них развивалось, с одной стороны, чувство изоляции, а с другой – чувство, будто они лучше всех других (в основном потому, что они не знали никаких «других»). Восстановление общения с Москвой открыло врата общения и взаимодействия с другими церквами, причем, на мой взгляд, очень здравым образом. Во-вторых, я считаю, что этот союз прервал существующую в приходах РПЦЗ тенденцию к дезинтеграции и даже, я бы сказала, к деградации, вполне очевидно обозначившуюся уже в начале 1990-х; если посмотреть на «карту» приходов РПЦЗ, будет, по-моему, ясно, что те из них, что были крепки до союза, становятся в итоге еще крепче, а те, что находились в более слабом положении (например, материально или по численности прихожан), начинают расти. Иными словами, союз работает в качестве эдакого энергетического напитка (да простится мне такое сравнение) – после долгих лет застоя в приходах РПЦЗ ощущается настоящий прилив энергии, особенно среди молодежи. Далее, говоря о возможностях, очевидна польза для нашего духовенства – оно теперь может не только взаимодействовать со своими собратьями в России, но и играть активную роль в формировании будущего Церкви, например, участвуя в различных синодальных комиссиях (а нашим епископам, конечно, – в соборах епископов), что до союза не было возможно никогда. Говоря о задачах, я думаю, что главный вызов лежит в когнитивной сфере – мы всё еще не очень хорошо знаем друг друга; если до 2007 года обе стороны придерживались множества негативных стереотипов, то теперь, я бы сказала, у них слишком много позитивных. Я думаю, нам надо быть очень реалистичными и понимать, что да, мы вступили в духовный союз с Московским Патриархатом, и это чудесно и очень важно. Но при этом патриархат – ещё и общественная организация, руководимая людьми, которые не всегда достаточно хорошо понимают положение РПЦЗ, у которых есть свои интересы, порой конфликтующие с интересами РПЦЗ, как их понимает наше руководство. И у нас есть собственные традиции, и было бы хорошо их соблюдать, даже если есть давление со стороны России, чтобы мы следовали преобладающей там практике, например, в части церковных песнопений – я считаю, что мы кое-что делаем лучше их; и даже в области одежды – есть тенденция копировать русских, например, ни с того ни с сего всех женщин хотят заставить постоянно носить платки – ничего такого раньше не было. Или такие вещи как соблюдения поста: в патриархате правила, похоже, более строги, чем в РПЦЗ – и я сомневаюсь, что это из числа тех вещей, которым мы непременно должны подражать (не потому, чтобы я считала, что нам не следует стремиться к аскетизму, а потому, что, по-моему, едва ли не самое лучшее в РПЦЗ – это умение ценить умеренность во всем, и этому Московскому патриархату стоило бы у нас поучиться). Наконец, мне известно, что до сих пор есть опасения «захвата» нас Московским Патриархатом – в административном смысле, – но в данный момент я не считаю это серьезной опасностью; по-моему, Патриархат искренне не намеревается вводить прямое управление из Москвы – уж слишком это хлопотно, это потребовало бы много людей и денег, а у них сейчас такого избытка ресурсов нет. Но я определенно считаю, что нам надо сосредоточиться на укреплении РПЦЗ изнутри, например, повышать образовательный уровень нашего духовенства, что-то предпринимать по части нередко прискорбного финансового положения наших приходов, чтобы мы могли сохранять ту степень автономии, которая у нас есть сейчас.
Вы недавно [2010] написали рецензию на документальный фильм о. Тихона (Шевкунова) «Гибель империи: византийский урок». В этой статье вы цитируете мнение Александра Мусина, сказавшего, что «о. Тихон явно не усвоил негативного урока Византии о пагубных последствиях слишком близких взаимоотношений между церковью и государством». Не наблюдаете ли вы в РПЦЗ движений в сторону анализа российского исторического прошлого без идеализации ни дореволюционной, ни постсоветской России, особенно по части отношений между церковью и российским государством?
Вопрос непростой. Вы правы, члены РПЦЗ во все времена были склонны романтизировать дореволюционную Россию. Это проявлялось даже в мелочах – в детстве я ходила в «русскую школу» в Наяке, в штате Нью Йорк, это была одна из лучших школ в своем роде. Мы изучали всю русскую историю по дореволюционному учебнику для детей, переизданному в эмиграции. Естественно, поскольку это был учебник, спонсированный имперским государством, можно представить себе тенденциозность его содержания (не сказать, чтобы нас учили неправде – нет, конечно, – просто факты были представлены в определенном свете). Так что я знаю, что моё поколение в РПЦЗ росло с этим видением дореволюционной России как некой утопии, и что это видение было, натурально, довольно широко распространено и в старших поколениях. Что касается меня, мне надо было прочесть всего Чехова, чтобы поставить эту точку зрения под сомнение – я, помнится, спрашивала себя: если он и впрямь описал социальную реальность России начала XX века точно, то отнюдь не удивительно, что революция произошла именно тогда, когда произошла. Итак, думаю ли я, что эта склонность идеализировать дореволюционную Россию слабеет? Не уверена – но у меня такое впечатление, что людям уже нет до этого такого дела, как было раньше. Отчасти причиной этому может быть то, что старые поколения эмигрантов повымерли, и непосредственная связь с этим прошлым ослабла; особенно важную роль сыграла смерть видных членов семьи Романовых. Позвольте мне слегка пояснить, что я имею в виду: когда я росла вблизи Джорданвилла, довольно часто в монастырь наведывались её Императорское Высочество Вера Константиновна и внук Александра III Тихон Николаевич Куликовский. Тем самым связь с дореволюционной Россией была самой непосредственной: глядя на этих людей, вы через них могли вообразить «Россию, которую мы потеряли». Но они – и, самое главное, великий князь Владимир Кириллович – скончались, а следующее поколение царской семьи было, мне кажется, далеко не так влиятельно в социальной жизни РПЦЗ. Отсюда, думается, и спад интереса к дореволюционной России и, следовательно, меньше идеализации – это уже не та тема, которая заботит многих.
По части второй половины вашего вопроса (об идеализации постсоветской России) – существуют две противоречивые тенденции. С одной стороны, есть сильная тенденция, особенно, кажется мне, среди относительно молодого духовенства и прихожан, идеализировать тамошнюю ситуацию, особенно в годы правления Путина/Медведева. Я думаю, это связано, хотя бы отчасти, с тем, что многие представители этой категории имели и имеют возможность пожить в России, а иногда и поработать (обычно в крупных московских фирмах), а круги, в которых они вращаются, состоят в основном из людей богатых, имеющих большие связи с правительством, а также в Московском Патриархате. И эта близость к источникам власти и влияния в России приводит к некоторой слепоте. Кроме того – и особенно после воссоединения с патриархатом, – можно наблюдать, как некоторые клирики явно теряют объективность и слепо принимают за истину любую информацию, которой их снабжают их московские коллеги, особенно в части существующих там отношений церкви и государства. (Всё сказанное не означает, что в настоящее время отношения церкви и государства в России, объективно говоря, не хороши, но это, пожалуй, тема другого разговора). В то же время, насколько я понимаю, некоторые клирики и (менее многочисленные) прихожане начинают приходить к более реалистичному восприятию российской ситуации, даже, может быть, к такому, которое характеризуется утратой иллюзий, и порой слишком пессимистичному. Но по моим ощущениям их пока меньшинство. Вот в целом мой ответ на ваш вопрос о толкованиях российской истории. Теперь вкратце о более конкретном вопросе – о понимании отношений между церковью и государством. Здесь, я думаю, в целом восприятие досоветской истории России в РПЦЗ не обязательно включает в себя идеализацию прошлого, во всяком случае, синодального периода. Разумеется, полагают, что тогда было несравненно лучше, чем в последующий коммунистический период, но многие признают, что и в той системе были проблемы, которые способствовали, хотя бы отчасти, прискорбным итогам революции 1917 года. Но я всё же думаю, что есть несомненная тенденция идеализировать сегодняшние взаимоотношения, и она особенно заметна после 2007 г.
Создвается впечатление, что высокопоставленные представители Русской Православной Церкви активно поддерживают внешнюю политику России, а в отношении её внутренних социальных проблем занимают в целом позицию пассивную. Кажется ли вам справедливым такое суждение, и если да, то какое влияние это оказывает на русских в диаспоре?
По правде говоря, я вынуждена не согласиться с такой оценкой. Действительно, той стороне деятельности Московского Патриархата, что направлена на внешнюю политику, уделяется очень много внимания как светскими, так и (официальными) религиозными средствами массовой информации России. Кроме всего прочего, это создает тройственное впечатление – одно верное и два ложных. Первое состоит в том, что патриархат, говоря обобщенно, стремится расширять и укреплять свое положение заграницей с помощью (или хотя бы при моральной поддержке) Министерства иностранных дел России. Это в большинстве случаев верное впечатление. Второе впечатление – что это делает патриархат чем-то вроде инструмента в руках Министерства иностранных дел, и эта оценка, я думаю, несправедлива. Здесь не хватит места, чтобы полностью развернуть мою аргументацию по этому вопросу, но одного примера будет достаточно, чтобы её обозначить: несмотря на настойчивое давление со стороны российского правительства, Патриархат до сих пор не принял под свой омофор приходов православной епархии Южной Осетии, предпочитая занимать позицию, согласно которой эти приходы принадлежат к канонической территории Грузинской Церкви, а патриархат на них прав не имеет, пусть Россия по сути дела и аннексировала эту часть Грузии. Что касается третьего впечатления, оно состоит ровно в том, что патриархат занимает более пассивную позицию во внутренних делах, чем во внешних. При этом, однако, игнорируются бесчисленные заявления, исходящие чуть ли не ежедневно от официальных патриарших учреждений; я не преувеличиваю: если сколь-нибудь регулярно смотреть российские новости, очень часто можно наблюдать, как ведущий рассказывает о чем-то важном, что происходит в стране, и затем камера направляется на клирика (часто, хотя и не всегда это либо о. Андрей Кураев, либо о. Всеволод Чаплин), и он комментирует это с церковной точки зрения. Собственно говоря, я вижу иронию в том, что с одной стороны раздаются призывы к церкви уделять больше внимания критике болезней нынешнего российского общества (или хотя бы реагированию на них), а с другой, когда церковь так и это делает, её реакция часто оказывается не такой, какую хотела бы наблюдать, например, либеральная интеллигенция, и тут патриархат ни с того ни с сего обвиняют в стремлении к клерикализму. (Я считаю, что опасность клерикализма всё же существует, но не потому, что Церковь всё чаще и чаще высказывается по социальным вопросам – но это, пожалуй, тоже тема для другого разговора). Наконец, я хочу завершить это обсуждение таким наблюдением – когда Русскую Православную Церковь призывают занять более активную позицию в отношении российских социальных проблем, что именно имеют в виду? Забавно – ровно такую критику я услышала буквально вчера в моем университете от одного русского, хотя и не православного коллеги. И мне подумалось – что ж, если люди хотят, чтобы Церковь чаще высказывалась по российским социальным вопросам, может быть, это проблема коммуникационная, может быть, патриархату следует использовать больше ресурсов для донесения своей позиции до населения – ведь не все же заходят на сайт Патриархии или на pravoslavie.ru, не все же смотрят телевизор, если уж на то пошло! Так что Патриархату, может быть, надо сделать свою позицию более, так сказать, доступной. Но это требование «активной позиции» можно толковать и по-другому – именно же, как требование не тратить времени на разговоры, а вступать в бой, бороться с бедностью, болезнями, алкоголизмом и т.п. – посредством повседневной деятельности клириков и мирян, посещения ими больных, обустройством православных больниц и клиник для наркозависимых, сбором пищи для голодных и одежды для нагих, посещения узников. И я твердо верю, что в этом отношении церковь, если понимать её как нечто большее, чем её официальные представители, занимает активную позицию в отношении российских социальных проблем, пусть и не критикуя их в полемических трактатах, но скорее выявляя их на местном уровне и делая всё, что в её силах при ограниченных ресурсах, для их решения.
Вы упомянули проблему клерикализма. Как бы вы определили это явление? И какие, по-вашему, проблемы оно может породить как в России, так и в русских приходах заграницей?
Клерикализм, насколько я могу его определить, – это когда религиозный институт приобретает признаки доминирования не только в социальном смысле, но и в политическом. Наиболее очевидный пример тому дает Иран после исламской революции 1979 года; менее выраженный вариант можно видеть в доминировании американских религиозных правых в политике последнего десятилетия, во всяком случае, до Обамы. В случае России самая близкая ситуация, какую только можно вспомнить, – это то, что происходило при патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче, когда церковь была не просто самой важной общественной организацией, но также, благодаря политическому активизму патриарха, самой важной политической силой, по крайней мере, временно. И мы все помним, к чему это привело – к прискорбному расколу и упразднению патриаршества сыном Алексея Михайловича Петром I. Опасность же, во всяком случае, для России, я вижу в явно выраженной склонности определенных церковных кругов к приданию церкви реальной политической роли; разумеется, это может диктоваться искренним желанием воспользоваться влиянием церкви для того, чтобы сделать Россию, если хотите, более качественным государством – и это, конечно, похвально, но в результате, боюсь, в таком случае центром церковной жизни станет «Россия», а не Христос. Тут три возможных исхода. Один – что мои дурные предчувствия неуместны, а церковь сможет на самом деле оказывать положительное воздействие на государство, не отказываясь при этом от своей главной миссии – спасения душ. Я, по правде говоря, надеюсь, что случится именно так. Но есть и еще две возможности, и я не пожелала бы нам ни одной из них. Одна – если церковное руководство перейдет границы, и, как это было при Алексее Михайловиче, государство, проявлявшее до тех пор благожелательность к церкви и готовность относиться к ней всерьез, вдруг, как только церковь зайдет слишком далеко в своих требованиях, обернется её врагом. Вторая возможность – что церковь станет всемогущей, и народ начнет реагировать на нее как он реагирует на любой всемогущий институт – с завистью, подозрением и в итоге с ненавистью. В истории российского народа были случаи, когда он оборачивался против своей церкви – XX век дает тому весьма кровавое свидетельство. Боюсь, если церковь станет слишком очевидной политической силой, а церковное руководство забудется и начнет вести себя как политики, а не как пастыри, это может отвратить от нее и от них многих российских граждан. Я от души надеюсь, что заблуждаюсь. Что касается опасностей для той части церкви, что составлена из диаспоры, я тут проблем не вижу – это вопрос о взаимоотношении церкви именно с российским государством, а, например, в Соединенных Штатах или воистину где-либо еще встретиться с подобной ситуацией невозможно. Единственное, что может обернуться проблемой, – это если народ РПЦЗ вдруг решит, что церковь слишком близка к государству и захочет уйти в раскол (ведь это было, на самом-то деле, одним из главных препятствий к воссоединению 2007 года). Но тут, как ни странно, противовесом может выступать один из факторов, о которых мы говорили раньше в этом интервью: как я сказала, в РПЦЗ склонны смотреть на ситуацию в сегодняшней России сквозь розовые очки, и это не позволит, во всяком случае, пока, мирянам и клиру скатиться к гипер-критическим, а потом и раскольническим настроениям.
Благодарю вас, д-р Папкова, за то, что вы уделили время этому интервью. Будем ждать продолжения разговора.
Беседовал А. Псарев